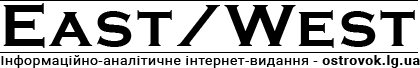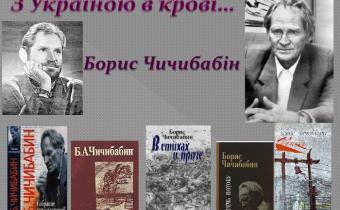Опубликовано: 4.08.2025. 3:29
"Будущее, вероятно, будет связано с институтами памяти, которые управляют беспамятством"
"ИЭ": Наш вопрос будет касаться идентичности, поскольку мы живём в эпоху консервативного или правового поворота, когда вопросы идентичности опять становятся ключевыми. Ваша биография весьма космополитичная или мультикультурная, если можно так сказать, и даже происходите Вы от предка из Германии. Да и сейчас Вы в Германии, долгие годы жили на Западе. Какая у вас основная идентичность, как вы себя идентифицируете?
Михаил Минаков: Ну, моя идентичность сформировалась в момент взросления, во времена моей работы фельдшером в селе, где я принял на себя амбицию быть философом. И, собственно говоря, эта первая тождественность, которая находится наверху, личная идентичность — это философия, принадлежность к философии. Но если говорить о коллективных идентичностях, то сегодня я определяюсь так: этнический русский, политический украинец и метафизический итальянец.
"ИЭ": Сергей обычно спрашивает о травме времён сталинского периода. Но нынешняя война, на мой взгляд, связана с другой травмой, с травмой так называемых «лихих» или «святых» 1990-х. Как Вы можете охарактеризовать этот период? Почему он оказался для России настолько травматичным, а для Украины гораздо менее травматичным?
Михаил Минаков: Мне кажется, он травматичен был для поколений до моего, потому что карьеры наших родителей, бывшие на взлёте, оказались прерваны или разрушены, их доходы уничтожены, будущее, которое они конструировали, в которое вкладывали свои надежды, было отменено. Но для моего поколения, я бы сказал так, что это было дерзкое, креативное время, — сумасшедшее, но креативное.
Есть прекрасная книга Натальи Паниной и Евгения Головахи о 1990-х, взгляд украинских социологов на 1990-е и те примеры социального безумия и те примеры, которые они приводят. И эта теория социального безумия рождается из страшной травмы 1990-х, как раз на примере травмированного украинского общества. И я бы сказал, что эта память не сохранена в Украине, не описана, репрессирована в коллективное бессознательное. Как и первый большой социально-политический кризис до оранжевого Майдана, кризис 1993 года, когда, собственно, был запущен первый большой революционный цикл в Украине. Об этом событии и массовых протестах почти не ничего не помнят. Там что-то было, но помнят лишь о двух Майданах. Память о 1993-м стёрта, ушла куда-то.
Это поразительно, но коллективная память современных украинцев имеет тенденцию быстро все забывать. Когда я говорю с сегодняшними студентами, с двадцатилетними киевлянами и львовянами, они говорят, что история Украины началась в 2014 году и они не видят причин изучать то, что было до этого. И я не всегда нахожу контраргумент на такую безапелляционную нелепость.
"ИЭ": Как писал Твардовский, «Чрезмерная забота о забвеньи немалых тоже требует трудов». Можем ли мы говорить, что украинская политика памяти предусматривает забвение травмы 1990-х?
Михаил Минаков: Я бы вообще говорил о том, что институты памяти (одно время я очень так плотно изучал их институциональную историю посткоммунистических стран выросли из либеральных политик люстрации и групп и центров, которые занимались документированием и увековечиванием памяти о тоталитарном прошлом. Законы о люстрации и создание госинститутов и гражданских организаций, выполнявших положения этих законов, относятся к 1993-2000 годам. В 1990-е годы у них была либеральная, гражданская и даже терапевтически-антиидеологическая миссия. Но чем дальше от распада Восточного блока и Советского Союза, тем более чёткая нациетворческая, идеологическая роль возникает у этих групп. И фактически уже в XXI веке возникают институты памяти или центры изучения тоталитарного наследия как идеологические центры с большими полномочиями, как машины беспамятства.
Я считаю, что эти центры служили новой идеологизации своих обществ, и вели работу во многом отличающейся от той культурной памяти, о которой писал Ассман. Даже самое страшное государство отсылает к идее общего блага. А национальная память отсылает к конструкту, который всегда меньше, чем государство, к нации в современной Центральной и Восточной Европе. И эта память формируется и закрепляется в национальных институтах как социальное воображаемое, противное гражданской идентичности и гражданскому духу. В этом плане национальная память начала ХХI века подрывает целостность государств, возникших в начале 1990-х. Наши посткоммунистические и постсоветские государства больше, чем нации, воображенные в начале 2000-х. Эта разница проявляет противоречие между современным государственным строительством и нациестроительством в нашем регионе. Эта диалектика особенно ярко проявляется в модели развития постсоветских обществ.
Со времён начала большого вторжения, мы вступили в новую эпоху. Постсоветский период завершен, а постсоветская тетрада уже больше не определяет развитие народов на Востоке Европы и Севере Евразии.Ни демократизация, ни европеизация, не определяют социально-политические и геоэкономичекие процессы — это всё в прошлом. Сейчас рождается новая эпоха. И как мне кажется, вот эти машины беспамятства, институты управления памятью, оказываются они крайне важны для нарождающихся политических режимов. За ними будущее. Выше Вы уже сказали об идентичностном повороте. Вот одно из ядер будущего. Оно, вероятно, будет связано с институтами памяти, которые управляют беспамятством ныне живущих и их политическими верованиями.
"В Киево-Могилянской академии изначально сосуществовали модель колледжа свободных искусств и опыт Киевской партшколы"
"ИЭ": Хотим ещё чуть-чуть вернуться к Вашей биографии. Вы вспомнили, что работали фельдшером. Когда Вы решили стать философом, историком, гуманитарием? Что на это повлияло? Может, какая-то литература прочитанная? Кто были Ваши учителя?
Михаил Минаков: Медицинское образование я получил в Запорожском медучилище. Я был на военно-фельдшерском отделении, нас готовили для Афганистана. С 1986 по 1990 год, по крайней мере, до объявления указа о выводе советских войск из Афганистана (в 1989 году) для моего поколения и для моей группы подростков в медучилище будущее было сопряжено с подготовкой пойти туда служить. И человек, который готовил нас к тому, чтобы выжить в этой войне, майор (в отставке) Петр Иванович Чумаков, я его до сих пор помню. Он нас готовил, чтобы мы выжили в Афганистане, чтобы нас там в первом бою не убили. Он всё время подбрасывал нам литературу этического характера, советско-философского толка, конечно, — и от неё воротило.
И вдруг в 1988 году, в то время я как раз подрабатывал на скорой, перейдя из санитаров в фельдшера, мне попался только что вышедший двухтомник Ницше. И вот между вызовами к пациентам я начал его читать. И потихоньку втянулся. А потом, когда был распределен в село и работал сельским фельдшером в 1990 году, я встретился с реалиями сельской жизни и смерти в условиях нарастающего экономического кризиса. Хоть проработал я там не долго, свое «кладбище» у меня есть все же появилось. И когда ты видишь, что мог бы помочь пациенту, спасти его или ее, но бедность, отсутствие простейших инструментов и лекарств в моем ФАПе, этого не позволяют… Это требовало философского отношения, рефлексии и практики осмысления жизни и смерти, и своей беспомощности перед лицом последней. Эта работа в селе ввела меня в философское дело, и я из него так и не вышел. Попутчиками моими в тех блужданиях были не только Ницше и Шопенгауэр, но и оба Булгакова (Михаил и Сергий), и Сартр с Камю, и другие философы.
Я хотел учиться философии, но не в советском вузе. Мне повезло, что открылась Могилянка, и там можно было изучать философию. А там были и западные профессора, и украинские — такие, как Мирослав Попович и Анатолий Лой, например. Оба — интересные, изысканно мыслящие философы. Я им благодарен за вкус, который они прививали к философскому делу. Был еще Вилен Горский, основатель кафедры истории философии и религиоведения в Могилянке. Ну, и многие другие. Наша кафедра была очень интересная.
"ИЭ": Но первой Вашей Alma mater был Запорожский университет.
Михаил Минаков: Да, исторический факультет Запорожского госуниверситета. Я размышлял так: раз в СССР философии учиться негде, и как раз Горбачёв разрешил молодым распределённым специалистам идти дальше учиться в вузы, то я могу продолжить образование на близком к философии факультете и вырваться из трёхлетнего «направления». Так я поступил в Запорожский университет на истфак.
Там было очень интересно учиться. Очень интересный опыт был связан и с работой в археологических экспедициях у профессора Геннадия Тощева. Для меня важными были лекции по средневековой истории профессора Юрия Ионина и древней истории профессора Александра Малёваного. Украинскую историю преподавали профессора Федор Турченко и Анатолий Бойко. Это все были очень сильные ученые.
Говорят, Запорожский университет не находится в списке топ-вузов Украины, но истфак был и остается силён, и эти профессора, за ними стояла школа, они умели работать и со студентами, и с историческим материалом. Учиться было очень интересно.
В ЗГУ я проучился два года. Но когда открыли Могилянку, то появилось место для изучения философии, и я уехал в Киев.
"ИЭ": Запорожский истфак и сейчас имеет своё лицо и выделяется на общем фоне. Давайте перейдём к Могилянке. Люди не из Украины, возможно, не совсем понимают, что слово «Могилянка» особенное. Слово «Могилянец» – это уже определённая характеристика человека в Украине. Когда-то кто-то в интернете написал шуточную пародию на компьютерную игру «Герои меча и магии» под названием «Герои Майдана». Имеется в виду первый Майдан 2004 года. Там были разнообразные юниты, и одним из низших юнитов на Майдане был «Могилянец».
Вы там учились, многие годы преподавали. Почему Могилянка – единственный вуз, который имеет такой политизированный имидж кузницы тех, кого критики именуют «грантоедами», «соросятами» и т. д.? Какова роль Могилянки в независимой Украине?
Михаил Минаков: Если говорить о первой Могилянке, старой, коллегиуме, основанном Петром Могилой ещё в XVII веке, а затем о Киевской духовной академии XIX века, то это — важнейшая часть интеллектуальной истории Киева. Киев и Могилянская, а потом Духовная, Академия неразрывно связаны. Это две судьбы, переплетшиеся во времена Модерна. Модерное лицо Киева долгое время определялось академией на Подоле, дававшей свет разума Городу.
Но, когда мы говорим о новой Могилянке, основанной в 1992 году, то речь идёт об очень специфическом педагогическом эксперименте.
Ранее я уже говорил о модернизации и модерности, которая так повлияла на мою семью. Мы, кажется, всегда были направлены на будущее. А 1990-е годы — это время, структурированное рывком в будущее. Этот период проявился в разных революционных экспериментах — политических, экономических, социальных, национальных и т. д. И образовательных в том числе.
Вот посмотрите, в Киеве много осталось выживших педагогических экспериментов тех лет. Среди них — Университет «Крок», МАУП, Могилянка. Но еще больше — не выживших экспериментов. Например, Соломонов университет.
Могилянка отличалась от всех этих экспериментов своей амдицией. В 1992 году ее учреждали как вуз, основанный на идеальной модели колледжа свободных искусств — Liberal Arts Education Colledge. Это было крайне важным для идентичности могилянцев.
Когда я поступал в Могилянку в 1992 году, то поступал в международный вуз, в International University of Kyiv-Mohyla Academy. Это вуз, смоделированный в рамках транзита модели с «идеального Запада», с какого-нибудь старого колледжа из Массачусетса, на постсоветскую почву. Колледж свободных искусств воплощали, во-первых, в постсоветском Киеве. Во-вторых, его учреждали люди, которые лучше понимали модель партшколы и Шевченковского университета с их жёсткой советской вузовской культурой. В Могилянке воплотились оба этих начала — идеальная модель колледжа свободных искусств и привычная образовательная практика.
В 1990-е годы у нас большинство преподавателей философии (мне кажется, процентов 60) были из-за рубежа: немцы, британцы, американцы, канадцы. Учиться философии и религиоведению у них было интересно: никакой кондовости, никакой пошлости раннепостсоветского периода не было. Они несли и иную академическую и философскую культуры мысли.
Плюс очень много сильных украинских философов, историков и политологов приходили в Могилянку, чтобы прочитать свой выношенный, выстраданный — «омріяний» — курс. Могилянка была местом для киевских интеллектуалов 1980-х, где они могли прочитать курс, который провести было попросту негде.
Например, Мирослав Попович прочитал нам несколько курсов в 1992–1995 годах. После одного из занятий мы пошли пить кофе, и он говорит: «Вот, понимаешь, я с шестидесятых годов хотел прочитать курс по структурализму и по истории украинской культуры в духе структурализма, но у меня не было места, где я бы мот мог это сделать». Но таких долгожданных авторских курсов было гораздо больше. При таком подходе, естественно, отношение профессора и к материалу, и к студентам, было очень специфичным, бережным и воодушевляющим.
Особенностью духа академии был особая горизонтальность в отношениях профессоров и студентов. Мы общались и в аудитории, и за её пределами очень много. Ясно, что не на «ты», но действовала особая взаимоуважительная горизонтальность, в рамках которой общались молодые и немолодые коллеги.
Ну и плюс нас, студентов, было мало, и мы были очень дерзкими, контрарными в отношении обычной советской вузовской культуры. Советская муштра (например, когда вы встаёте, когда профессор входит в аудиторию) не имела места в нашем сообществе: это было первое, о чём мы, «спудеи», договорились в сентябре 1992 года. И профессорам, за редким исключением, это тоже нравилось. Такой была специфика Могилянки.
Подводя итоги, еще раз укажу на базовое институциональное противоречие КМА. Модель колледжа свободных искусств и опыт Киевской партшколы сосуществовали изначально, и это диалектическое противоречие было снято в ХХІ веке, когда Могилянка потеряла свою автономию и стала обычным вузом, частью министерской системы. Так что, когда мы получали дипломы, то они уже были подписаны как National University of Kyiv-Mohyla Academy — «Inter» начала 1990-х потерялось по пути постсоветского транзита.
И разу уж Вы спрашивали об идентичностях, то несомненно, Могилянка — часть моей судьбы и моей идентичности.
"ИЭ": Вы упомянули Мирослава Поповича, с которым общались в неформальной обстановке. Это крупный украинский философ, но ещё и общественно-политический деятель. Это был человек, который от имени Народного Руха на центральном телевидении вёл дискуссию с тогда ещё завотделом ЦК Компартии Украины Леонидом Кравчуком, будущим первым президентом Украины. Но при этом, как мне казалось, Попович всегда избегал крайнего национализма. Его известная книга «Красное столетие» сегодня может показаться во многом немейнстримной, потому что там говорится, что мы не должны отбрасывать советский период истории. Каким был Попович за пределами кафедры, за пределами академии?
Михаил Минаков: Во-первых, это был блестящий ритор. Да, он преподавал со стилем и вкусом. И приятно, что он не рисовался — это действительно была часть его артистической личности, незашоренного философа.
Важно сказать, что Народный Рух конца 1980-х вбирал в себя разные идеологические группы 1980-х, и Мирослав Попович был там органичен. А вот уже в начале 1990-х, Попович – это яркий социал-демократ, он, вместе с рядом молодых интеллектуалов (Юрием Буздуганом, Оленой Скоморощенко и многими другими мыслителями левого толка), пытался основать партию этого направления. Они же пытались и программу большую для Украины сделать. Я даже помню брошюрку, которую он подарил мне, где-то у меня должна остаться в архивах в Киеве. Одним словом, он был то, что у нас в Италии называют «centrosinistra», левоцентристом. И очень интересно, как он это всё аргументировал и в разговоре, и в публикациях. Интересно, что иногда вот так поговоришь с ним за кофе или на прогулке (он любил пройтись, разговаривая, по набережной Днепра на Подоле, а потом смотришь — выходит статья на ту тему, о которой вы недавно говорили. И вот, например, в 1998 году у него выходит статья, где он говорит о правой мании видеть во всем «Возрождение». Он считал, что у Украины огромный шанс уйти в будущее, прогрессировать, но почему-то всё больше внимания общества и политиков обращается назад. Вместо рывка вперёд, все оглядываются назад в прошлое, которого на самом деле не было. И националистический миф Возрождения – это попытка воплотить то, чего не было. Это была блестящая статья, идеи которой он обсуждал с нами студентами. Признаюсь, я её часто перечитываю и теперь, а также даю своим студентам. Но поскольку истории Украины до 2014 года не было, то студенты не очень любят ее читать.
"ИЭ": В истории Могилянки есть ещё две личности, о которых я бы хотел Вас спросить. Это её президенты: основатель Вячеслав Брюховецкий, который рассказывал, что он это помещение, кажется, в шахматы выиграл у начальника Киевского высшего военно-морского политического училища, и нынешний президент, бывший министр образования Сергей Квит, который часто повергается критике за крайне националистические взгляды. А какими Вы видели этих людей? Что можете о них вспомнить?
Михаил Минаков: Про Квита я мало что могу сказать, мало общался. А вот Вячеслав Степанович, это был очень фактурный человек, герой того времени. Да, и, говорят, парторг Института литературоведения, и создатель Могилянки, и любитель поговорить о былом и будущем, и деятельный человек. За всем этим была глубина: он был умелым администратором и интеллектуалом, которого всё время тянуло в политику. Вот поэтому Могилянка всё время как-то в политических событиях участвовала. Эта встроенность в политические процессы была изначально, что, наверное, нормально для университета. Томас Гоббс, если почитать его «Бегемота», постоянно ругает университеты за то, что они вмешиваются в политику и приводят к постоянным гражданским конфликтам.
Брюховецкий был у меня в первый год обучения тьютором. Могилянка пыталась в 1992–1993 гг. сделать так, чтобы у каждого студента был консультант или как это называлось, «радник» (с укр. – «советник»). И Вячеслав Степанович был моим «радником». Он пытался иногда встретиться, но все больше был слишком занят. Поэтому раз в семестр я мог прорваться к нему, обсудить свой образовательный план на полугодие — и все. Но и эта малость была важной — он всегда мудрый совет давал.
Брюховецкий провёл Могилянку сквозь тяжёлые времена. Это был новый университет без ресурсной поддержки. И он должен был из ничего выбить деньги, найти здание, найти штат. Это всё было крайне сложно. Я могу понять, те университеты, те образовательные эксперименты, которые строились вокруг денег, — МАУП, например — они зарабатывали и могли развиваться. А Могилянка была настроена на совершенно иное, на какие-то сильные идеалы, на западную нормативность, и поэтому бюджетных или коммерческих ресурсов не было. И то, что президент Брюховецкий сумел провести Могилянку и через 1990-е, и в начале 2000-х, это дорогого стоит.
Но, естественно, не отменяет и то, что его советский опыт, и его понимание Liberal Arts модели были специфичны. Это специфика постсоветских 1990-х: все постсоветские общества пытались создать свободные выборы, конкурентную политику и идеологическое многообразие, не имея практического личного опыта выборов, конкуренции и понимания идеологически иного. Но так и возник постсоветский мир. И Брюховецкий был из тех, кто его строил.
"ИЭ": Существует ли могилянское политическое лобби в Украине?
Михаил Минаков: Нет, не думаю. Могилянцы — не партия и не клан.
Если посмотреть на первое поколение выпускников — это поколение индивидуалистов, свободных личностей. И дальше эта линия продолжилась, несмотря ни на что.
Во время учебы, мы постоянно соревновались друг с другом. Учеба в Могилянке стоила дорого. Мне пришлось всё лето проработать на картошке, брать в аренду у соседей несколько делянок, чтобы вырастить, продать и заплатить за первый год образования. Это 200 стоило долларов, огромные деньги для 1992 года. Отец в том же году, по-моему, продал машину «Ниву», на которую он копил полжизни за какие-то 800 долларов, значит год учёбы так дорого стоил четверть цены одного из самых дорогих советских автомобилей.
Картошка мне позволила оплатить первый год. Но потом, трое студентов курса с высшими баллами могли не платить за следующий семестр или год. Поэтому было крайне важно соревноваться в учебе. И этот агон создавал очень здоровую конкуренцию и преданность науке. Мне очень нравилось это. Нас это подтягивало, заставляло двигаться, учиться. Это было очень интересное, соревновательное сообщество молодых учёных.
При этом, если я не ошибаюсь — кто-то собрал статистику по первым трём годам выпускников — большинство из нас уехало из Украины, живем за рубежом задолго до 2022 года. Это связано отчасти и с тем, что могилянцы не находили себе места в постсоветской системе образования и того, что осталось от науки.
"ИЭ": Могилянка сразу выделялась своей ориентированностью на Запад, стремлением интегрироваться в западную академию, в то время как остальные украинские вузы долгое время были замкнуты внутри страны, и международные контакты не то, что не развивались, а часто даже не приветствовались. Это был подход, который очень долго делал украинскую науку «відрубною», закрытой, изолированной. Вам в этом плане, конечно, повезло. Расскажите, как Вы начали ездить за границу и немного о Вашем опыте, первых ощущениях от поездки за рубеж, западной академии.
Михаил Минаков: Во-первых, это Запад приехал в Украину через Могилянку. Например, диковинную в Восточной Европе аналитическую философию нам привезли профессора Аллан Уоттс из Оксфорда и Тарас Закидальски из Торонто. Средневековую философию — Роланд Пич (исследователь средневековой и раннемодерной мистической философии) и Массимо Серретти (Латеранский университет, теолог-кантианец). Психоанализ Юнга привез канадский профессор украинского происхождения Рассел Морозюк (эту линию продолжил в 1994 году молодой украинский профессор Вадим Менжулин). Все они приехали либо по личной инициативе, либо по воле своих университетов, которые признавали свою миссию, или даже миссионерскую роль – привести западную науку в постсоветскую страну. Это было блестящие ученые и лекторы, вовлекавшие нас в транснациональные сети глобальной науки.
Во-вторых, была ещё и такая группа в Могилянке – отдел международных связей. Это не просто подразделение вуза, это была команда из нескольких человек. Я помню их лица и имена, наверное, нескромно их тут называть, но я каждому из них благодарен. У них была своя осознанная миссия – миссия связи Украины и Запада, служение мобильности молодых и зрелых ученых. Эти люди работали не за деньги. И они отправляли профессоров и студентов на Запад и принимали западных коллег в Киеве. Все это требовало сверхусилий: в начале 1990-х даже факс не в каждом университете был, средства связи были минимальны. Нужно было сделать сотни звонков, раундов переговоров. Как они справлялись, я не знаю. Но это были очень важные люди для всего могилянского сообщества. Сообщество было маленьким и солидарным, поскольку в 1990-е студентов было немного. Как, впрочем, и сейчас. Могилянка — это бутик-университет. А тогда нас было 130–140 человек, 500 к середние 1990-х.
И когда я поехал на учебу в Германию в 1993 году (Дрезден, потом Берлин), стипендию оплачивал Дрезденский технический университет, потом — хабермасовская стипендия (специально под Могилянку, как я понимаю). И инициатива выходила от сотрудников академии. Такого рода связи и инициативы возникали на личной инициативе сотрудников вузов.
Поездки и обмены Могилянка приветствовала. Если ты едешь на семестр, то значит, пропустишь какие-то курсы. Профессора шли навстречу студентам и давали возможность сдать экзамены экстерном или с отсрочкой. У нас была и гибкость, и мягкость.
И ещё, если среди студентов у нас было постоянное соревнование, то на уровне «профессор – студент» была особая коллегиальность. Я в других украинских вузах её не встречал. Везде есть иерархия, дистанция. А вот Могилянка 1990-х – это было товарищество, настоящий коллегиум.
"Наука делится не на национальные ячейки, а на школы"
"ИЭ": С какими трудностями сталкивался студент / профессор с постсоветского пространства в западных университетах?
Михаил Минаков: Мне кажется, первое – это отсутствие нужных публикаций в начале академической карьеры. Когда я был начинающим ассистентом, потом доцентом, у меня был несколько публикаций на украинском или русском, но на английском или на немецком не было. Это сразу создавало определённый барьер. То есть по-настоящему интеграция начинается с презентации твоего исследования. Ты входишь в академический западный мир с представлением своего исследования. Для украинских молодых ученых это было сложно. Вот такой тормоз был.
Во-вторых, я, например, хотел учиться и работать в Украине, поэтому я был готов поехать на год или на семестр поработать или поучиться. Но я всё время возвращался, для меня это было крайне важно мыслить и писать в Киеве, в моем Городе. Для меня воображаемые национальные сообщества не так важны. Но вот органические сообщества — городские общины — очень важны. Части моей жизни и идентичности связаны с Запорожьем, Киевом и Миланом. Работа и преподавание в Киеве были для меня крайне важны. Моя первая англоязычная книга была написана мною как философом, который смотрит на мир и на Восточную Европу с холмов Киева. Да, мой взгляд является киевоцентричным, если хотите. Но жизнь вносит свои поправки, и философствовать сейчас можно за пределами любимого Города, в среднеевропейских или западных странах. Моя жизнь и работа продолжается в древнем Милане.
"ИЭ": Существует ли единая мировая наука, во всяком случае, гуманитарная? Или это всё же набор национальных наук?
Михаил Минаков: Я думаю, что единой науки нет. Мир действительно оплетен академической сетью, и университеты — это платформы, являющиеся важными элементами этих сетей. Но наука делится не на национальные ячейки, а на школы или группы в гуманитарных дисциплинах и социальных науках. Например, есть группы деколониалов и постколониалов — две школы, которые воюют друг с другом во всех возможных дисциплинах, в философии, литературоведении, истории и т. д. Именно такие школы и составляют составные части глобальных научных сетей. Некоторые школы могут занимать доминирующие позиции в определённых национальных системах или университетах, и распределять бюджетные и человеческие ресурсы в свою пользу. Другие школы маргинализированы, но потом происходит замещение, и бывшие гегемоны отправятся на окраину, а злые маргиналы оказываются при власти, и т. д. Так что я бы смотрел не на национальные деления, а на школы в пределах глобальной науки.
"ИЭ": То есть они трансграничны. Я почему этот вопрос задал? Потому что в Украине есть такое понятие «соборность исторической науки». То есть существует единая национальная историография, а не набор разных школ.
А в России есть точка зрения, что существует, т. н. «туземная наука». Ее приверженцы говорят, что у нас есть наша национальная историография, и мы должны её придерживаться в первую очередь. А что думают за рубежом, нам, по большому счёту, должно быть всё равно. Но в связи с Вашей интерпретацией возникает другой вопрос. Если первостепенную роль играет не «национальная наука», а научные школы, и эти школы ведут между собой борьбу, то мы можем сказать, что при этом идёт не столько борьба за выяснение истины, сколько борьба за гранты, за влияние, то есть тот символический капитал, который переходит в реальный капитал.
Михаил Минаков: У Бурдьё в «Homo аcademicus» или у Бруно Латура с соавтором в «Laboratory life» как раз об этом много написано. Там можно почитать, как он описывает племена в академической среде. Ну, да, особенно его калифорнийский период, когда он исследует социологию как набор школ, которые между собой воюют.
На самом деле утверждение про наличие национальной историографии – это утверждение определённой школы, которая занимает административные посты, контролирует министерство или департаменты, кафедры, факультеты. Я не отделяю научную истину и финансы… Как там говорят американцы? “If you are that smart, show me your money.” Ум, интеллект, разум и ресурсы должны идти вместе, иначе этот ум, этот разум, эта наука не проявятся.
Если мы вспомним 1990-е или начало 2000-х, то вспомним и то, как сложно было опубликовать книгу или статью. Как едва выживали научные издательства и журналы. Я помню, как сложно в 1990-е было редакции родного мне журнала «Філософська думка». Я вспоминаю его редакцию в 1990-е годы, это было очень бедное место. Всё делалось на коленках, сверхусилиями, и тоже — самоотверженными людьми (Владимир Жмыр и Вячеслав Недашковский). Наука 1990–2000-х не приносила и не получала денег.
Но позже, когда в науку пошли деньги, можно было видеть, как стала возникать несоборная, бюрократическая надстройка и группы по распределению финансовых и властных ресурсов под свои программы и идеологические школы, под свои кадры.
В этой борьбе ученые-«либералы», например, везде проиграли. Ну нечего космополитам делать в патриотических вузах, на патриотических кафедрах. В том числе, кантианцам… Кантианцы – это своя всемирная сеть, среда, сложившаяся со времен Канта, — это всемирная федерация, которая нас бы нас объединяла. И мы, Кантовское общество Украины, привозили кантианцев Запада и Востока в Киев. С 1998 по 2008 мы провели 11 конгрессов со звёздами кантианских исследований именно в Киеве. Именно тут, в Городе, неформальное сообщество кантианцев могло использовать ресурсы нескольких вузов. Когда Кантовское общество возглавляли его глава профессор Анатолий Николаевич Лой (закафедры философии в Шевченковском университете) и я, секретарь общества и ассистент кафедры философии из Могилянки, мы объединяли ресурсы обоих вузов для проведения конференций. Если в других сферах эти два вуза конкурировали, а их начальство не находили общего языка, то на уровне «школы» было возможно взаимодействие по гамбургскому счёту.
Нужно и далее работать с эмпирикой уникальных событий, искать универсальное и неповторимое, а также держать власть симулякров на цепи
"ИЭ": В этом контексте возникает еще один вопрос: возник спор с немецким исследователем памяти Штефаном Бергером. Это не только его идея, что между памятью и историей, принципиальной разницы нет, потому что историки, начиная с XIX века, были агентами, прежде всего национальной памяти. Поэтому говорить о том, что история или вообще, гуманитарное знание в целом – это наука, это неправильно. Я, может быть, и соглашусь, что гуманитарное знание не дотягивает до стандартов физики, математики, химии. Но можем ли мы считать, что поиск истины не является задачей гуманитарного знания и гуманитарий — это всегда агент тех или иных политических сил?
Михаил Минаков: До наступления времён патриотической науки и постправды, действительно, истина в научном поиске была очень важна. Но истина понималась по-разному. В объективных, точных науках и в науках о природе истина была связана с повторяемостью результатов эксперимента. У нас в социальных науках, истинность теории проверялась силой предсказания. Иначе говоря, если ваша теоретическая модель верна, то она срабатывает в виде сбывающихся прогнозов. В гуманитаристике истинность — это внимание к уникальным событиям.
Что это за истина уникального события? Во-первых, речевые фиксация и воспроизведение: миссия гуманитарной дисциплины — помнить о событии, давать данные о том, что позволяет его понять…
Итак, науки могут быть номатетичные и идиографические, о чем писали кантианцы уже более столетия тому назад.
Я бы добавил еще, что гуманитаристика – это место идеологических столкновений. Особенно в последние 10–15 лет. Особенно в тех дисциплинах, где речь идет о прошлым. Конечно, в философии мы пытаемся держать рамку, которую первые задали метафизики: ориентация на вечное, отличном от текущего, эмпирического. Соответственно, истина корреспондентна (то есть отсылает к соотношению вечной идеи и меняющейся реальности). Но когда на мы используем универсальные положения, концепции, понятия в отношении изменяющейся природы, то наше мышление отдается логике репрезентации (соотношение двух планов реальности, вечной и опытной). Но мы живем в более сложном социальном мире, в котором возникла и занимает все более важную роль третий план — симулякр. Это некая визуально наличная часть реальности, состоящая из символов и образов, которые ничего не репрезентуют, не соотносится ни с вечным, ни с эмпирическим. И эти симулякры занимают все более гегемонистское положение в гуманитаристике.
И вот уже этот «спектакль» (симулякровый план реальности), который довлеет в современном обществе и гуманитарных дисциплинах, операционализируется властными структурами для усиления контроля над мышлением, поведением и самопониманием подконтрольных населений. Это особенно заметно в нациестроительстве, в государственном строительстве, в новой политике милитаризма, и т. д. Политика и социальное взаимодействие ушли и от эмпирики, и от вечных, универсальных измерений.
Да, мне и обидно, и страшно за судьбу современной гуманитаристики, по крайней мере, в Европе и Северной Америке. Но я занимаю стоическую позицию, придерживаюсь той максимы, что нам «своє робить». Нужно и далее работать с эмпирикой уникальных событий, искать универсальное и неповторимое, а также держать власть симулякров на цепи, если это возможно, конечно.
"ИЭ": Вы вспомнили о своей работе в Кантовском обществе Украины. В прошлом году был юбилей Имманиула Канта, трехсотлетие. В нынешнем Калининграде готовились мероприятия с участием мировых учёных и представителей. Но из-за войны, разумеется, всё это не состоялось. И в России начали делаться странные заявления. Тогдашний губернатор Калининградщины назвал Канта русским трофеем. Потом обвинил Канта в развязывании войны с Украиной. Потом канцлер Олаф Шольц вдруг, тоже говоря о юбилее Канта, начал говорить о том, что Владимир Путин не имеет права на Канта и что он ему запрещает предъявлять претензии на Канта. И тема очень политизировалась. Но тем не менее в условиях нынешней войны, нынешнего правого поворота, кантианские идеи, они актуальны, они нам чем-то могут помочь? Или судьба кантианцев только в эмиграции?
Михаил Минаков: Сейчас кантианцы работают и дома, и в эмиграции. Идеи Канта универсальны, сильны, но все хуже понимаются даже в цеху философов. И критики, и приверженцы Канта плохо его понимают, не читают. Его влияние в Восточной Европе выросло в 1990-е, подмяв долгое влияние гегельянцев; но теперь правое гегельянство (и хайдеггерианство) вновь занимают ключевые позиции.
Я думаю, используют как-то искусственный интеллект для трёх тезисов из, например, его трактата «К вечному миру». А на самом деле это крайне интересная работа, она очень актуальна. Я пытался её немножко объяснить в книге о диалектике современности в Восточной Европе. Там я отстаиваю тезис о том, что Кант был душеприказчиком Просвещения. Он последний просветитель, грубо говоря, который должен был обновить аргументацию в пользу возможности мира между народами. После него идут другие философии и новые времена: Гегель, романтики и т. д. Но Кант продолжает линию, начатую ещё Лейбницем. Лейбниц написал работу «Codex juris gentium diplomaticus», в которой переводил для дипломатов идеи просветителей о том, как можно выстроить системы права — международного и национальные, — которые бы уменьшали склонность народов, государей, государств к войнам. А Кант подхватил эту стратегию в трактате с черно-ироничным названием. Тут Кант говорит не о вечном мире. Путь «к вечному миру» — это картинка, голландская карикатура, где такая подпись стоит под гравюрой ночной дороги на кладбище. Кант иронизирует, и в то же время говорит, что возможны такие политические системы, формы правления и межгосударственные отношения, которые сократят вероятность войны и увеличат возможности для мирного сосуществования.
Его работа была очень важной. Он был свидетелем того, как разрушается консенсус Просвещения в отношении возможности долгого республиканского мира. В середине XVIII века мыслители Просвещения сформулировали такую модель долгого мира: для его достижения нужно, чтобы все государства в мире были республиками. Республики не будут воевать друг с другом, поскольку в республиках именно граждане служат в армиях; при этом их средства к сосуществованию добываются мирным трудом. Нападать друг на друга гражданам республик — значит идти против своих интересов в достатке и жизни. Второй частью аргумента было еще и то утверждение, что будущее — за республиками. Они устойчивее, прочнее монархий. У монархов армии состоят из наёмников, и их всегда меньше, чем граждан в республиках. По этой модели, монархии слабее республик, и со временем они должны отмереть. В общем, монархии обречены, за республиками будущее, а долгий мир рано или поздно станет возможным.
Но что видит Кант в 90-е годы XVIII века? Большая Французская республика, возникшая в результате революции, оказывается агрессивной, она не только себя защищает от монархий, но и сама агрессивна: происходит аннексия левобережного Райнланда. Значит идея мирной природы республики реальность не подтверждает. Одновременно с этим, реальность опровергает и второй аргумент. Кант был свидетелем того, что три монархии окончательно победили и разделили республику, Речь Посполитую. Эти исторические процессы показали, что консенсус просветителей не работает.
В своем трактате Кант вводит поправки в формулу мира Просвещения. В отличие от Лейбница, он начинает разговор не с дипломатами, а политиками и генералами. Он им даже там кость бросает, сравнивая их с дьяволами, бесами. Он утверждает, что даже дьяволы могут создать республику. «Дьявол» — это ум без совести, рассудок без связи с моралью и свободой. Но даже они, используя только рассудок, могут построить республику, которая им также может быть выгоднее, лучше, чем монархия.
Какой политик не чувствует чертовщины в политике — и себя немного дьяволом? Вот тут-то Кант и пытается привлечь их к разговору…
Трактат — это крайне интересный, многослойный документ. Я его, кстати, читал со многими украинскими, американскими и европейскими политиками на разных тренингах и семинарах. И было крайне интересно, как по-разному, но всегда с интересом к этой дьявольщине политики относились в трактате. Но важнее то, что политики видели, откуда вырастает картина мира современности и важность Кантовской мысли.
Ну, а то, что его делят, как трофей, политики — то это лишь показывает, как его мысль важна. В реальности же делить нечего: Кёнигсберг-то остался только небесный, не так ли? А град земной — это Калининград, с хрущёвкой на том месте, где когда-то стоял дом родителей Канта. Всё изменилось. А Канта, как и Сковороду, мир ловит да не может поймать.
"ИЭ": В продолжение мысли о вечном мире и о философах. На днях появился пост украинской философини Ирины Жерёбкиной в «Facebook», в котором она раскритиковала своих коллег Владимира Ермоленко и Вахтанга Кебуладзе за то, что они пытаются продвигать нормализацию, культ войны, критикуют европейских либеральных демократов, которые не преодолели свой страх перед войной и не стремятся к возвращению истинной «рыцарской» европейской идентичности. Насколько такие взгляды сейчас распространены в украинской и европейской философии? Что война – это нормально, это нормальное рыцарское состояние общества. И мир нам, в общем-то, и не нужен.
Михаил Минаков: Немало философов в тылу Украины и в Европе поддерживают войну, считают её естественной. В принципе, никто особо и не спорит. Война действительно — это естественное состояние людей. А вот цивильное состояние, цивилизация — это неестественная сфера, та часть жизни, где мы делаем усилия жить по праву, открываем пространство гражданина — республику, и создаем возможности для международного права. Человек существует в этих двух измерениях.
Да, можно, конечно, отдаться ресентименту, уйти в воображение войны, в рыцарственную некрофилию. Мне кажется, это уже произошло во многих сообществах. Но есть и те, кто отстаивают витальную сторону, — и не обязательно пацифизм, а поиск места для жизни, равновесий, балансов и так далее.
А вот что касается аргументов профессора Жерёбкиной, я бы сказал, что это редкий пример интеллектуальной храбрости и честности в отстаивании витальности, витальных ценностей. Эта позиция озвучивается мало. Это очень непопулярная позиция, но именно она во мне отзывается, скажем так.
"Мы не способны выдерживать тот темп, который задал прогресс"
"ИЭ": Вы редактировали сборник, посвящённый демодернизации, вместе с Яковом Рабкиным, профессором из Канады. И там писали, если я не ошибаюсь, о демодернизации постсоветского пространства. Какой смысл Вы вкладываете в это понятие? И как влияет демодернизация на нынешнюю войну с Россией?
Михаил Минаков: Действительно, в 2016 году в университете Ниццы прошла конференция, когда Яков Рабкин и ряд других старших профессоров-эмеритусов собрали учёных, которые анализировали разные случаи поломок Модерна в своих обществах. Там было, если я правильно помню, более 40 докладов. Мы, редакторы, выбрали из них 20 с лишним текстов и собрали их в этой книге, которая и до сих пор очень активно цитируется, вызывая много споров. Но ни Яков Рабкин, ни я, ни многие другие авторы разделов в этой книге – не создатели этой концепции. Она создается в трудах Алена Турена и Питера Бергера, еще у ряда других социологов и экономистов уже во второй половине XX века. Турен, например, видел демодернизации и во Франции, и в колониальных обществах.
Есть прекрасный ряд романов Видиадхара Найпола (V. S. Naipaul), который потом и Нобелевскую премию получил, в которых он описывает опыт человека, который живёт в колонии после ухода империи, в то время, когда племена возвращаются… — Это часто путают с демодернизацией, но не правы: это примеры архаизации. Если же говорить, собственно, про демодернизацию, то это — не возвращение к традиционному обществу, а скорее возврат к предыдущим этапам, моделям модернизационного развития. Ну, скажем, из XXI века вернуться там в национальные революции начала XХ-го. Или стремиться вернутся к имперским экспериментам XIХ века. За этими попытками стоит демодернизационный порыв. Это всё поломки социального времени, которые крайне интересны и ведут к крайне пессимистичным последствиям. У них свои причины: оказывается, мы не способны выдерживать тот темп, который задал прогресс.
И вот сейчас идет дискуссия о прогрессе между теми, кто чтит наследие классического просвещения (с его рационализмом, либерализмом и расколдованным миром) и новыми — «тёмными» — просветителями. Темные просветители, особо влиятельные в сообществе (бывшей) Силиконовой долины, исповедуют акселерационизм — позицию, которая требует разрушить любую структуру, мешающую технологическому прогрессу. Среди таких помех — демократия, конституция, системы либерального права.
И тут возникает вопрос: а что же такое прогресс? Это прогресс моральный, как, например, для кантианцев, или прогресс техники… Было направление радикальной мысли, считавшей, что истинный прогресс связан со средствами, расширяющими сознание (ЛСД и т. д.).
В любом случае, дискуссия о прогрессе сразу проблематизирует и то, что это такое человек, насколько важна свобода, насколько важно право. Это может быть плодотворная дискуссия. Однако сейчас она превращается в новое политическое движение с сильной идеологией и метафизикой. Часть команды Трампа находятся под влиянием тёмных просветителей, и они считают, что дело идёт ко второй Американской Революции. У нас, кстати, недавно вышел новый номер журнала «Идеология и политики», в котором философы из разных точек мира предсказывают начало эпохи воли. А воля – это концепт, в общем-то, тоже из идей прошлого, это — звоночек из прошлого с программой еще одного демодернизационного порыва.
Но для нашей части мира, и это был мой аргумент, характерны два типа демодернизационных процессов. Один связан с войнами, и их влиянием на общество. Войны вгоняют сообщества в ситуации выживания, что отодвигает вопросы права или свободы, политической и экономической эмансипации на маргинес. Главное выжить, сохранить генетический материал и потом отомстить врагу. Тем самым, модернизация отменяется логикой ресентимента.
А второй процесс был связан с медленным дистопическим гниением. Вот Модернизационный порыв начала 1990-х сошел на нет в социально-политических системах с вездесущей коррупцией, неэффективностью формальных институтов. И какие бы стрессы ни происходили — революции, войны, массовые движения — неразвитие, стагнация не менялась. Такие социальные системы медленно гнили, не реагируя на внешние раздражители.
Эти два типа демодернизации определяли развитие постсоветской Восточной Европы на десятилетия. Но сейчас, как мне кажется, мы переходим в новую эпоху. Не знаю, будет она действительно Эпохой Воли (о чем мы спорим в вышеупомянутом номере журнала «Идеология и политика»), но война Путина против Украины запустила цезуру — разрыв с постсоветским миром и временем произошёл, и в 2025 году проступают очертания новой исторической эпохи со своей интернациональностью, отличной от постсоветской.
Если можно, я кратко объяснил бы, что такое «постсоветское состояние». Я бы описал постсоветское состояние историческую эпоху, связанную с четырьмя направлениями развития: демократизацией, маркетизацией, национализацией и европеизацией. Демократизация — это тренд, связанный созданием институтов и структур свободной политики, гражданственности, конкурентных выборов, идеологического многообразия и т. д. В то же время, этот тренд 1990-х – начала 2000-х был диалектическим процессом, и в борьбе гражданственности и подданничества демократиям стали противостоять и первые автократии. В этом процессе проявился постсоветский человек как очень креативная историческая субъектность. Постсоветский человек рожден революцией 1991 года, которая одновременно включала в себя революции в публичных и приватных секторах. Мы создавали новые государства, политические и правовые системы, практики гражданского мира в публичной сфере. И в то же время, новые начала вырастали в приватной сфере: революция происходит и в сексуальности, и предпринимательстве, и в криминальном секторе. Это всё происходит одновременно.
Антропотип человека, который способен не только выжить, но и участвовать во всех этих изменениях – это крайне сильный человек. Однако результаты этой креативности, если измерять её в терминах демократии и автократии, были неодинаковы: автократы победили. Институты свободы оказались очень хрупкими, а инвестиции жизненной силы в несвободные режимы привели к куда более устойчивым последствиям. Автократии оказались умнее, жизнеспособнее. Судя по всему, за ними будущее для нашего региона.
Маркетизация: рыночные процессы зашли очень далеко. В новых странах возникли рынки, открытые для глобализирующегося мира. Тут же произошли и поломки идеальной модели рынка: они оказались неконкурентными, способствовали бедности и углубляющемуся неравенству. Рынки способствовали установлению олигархии и огромных патрональных систем. Именно «поломки» рынков оказались настолько сильны, что любая попытка революции, направленной против них, приводила лишь к их усилению. Кланы и патрональные сети лучше приспосабливаются к вызовам, чем любой формальный институт.
Национализация была попыткой укоренить демократию и рынок в новых обществах. Происходила национализация государства, рынка и органических сообществ, чье воображаемое подчиняло себе национальное воображение. Это начиналось с довольно инклюзивной национал-демократии. В движениях национал-демократов Перестройки и начала 1990-х были и крайне правые, и левоцентристы. Так было и в Украине. Например, Мирослав Попович, интеллектуал социал-демократического направления, был важным участником Руха, сотрудничал с национал-демократами других идеологических направлений. Но со временем оказалось, что национализация создала такой тип идентичностей, которые сильно меньше государственной и гражданской идентичности. Они запускают машины беспамятства, подчиняют органические сообщества (местные или городские сообщества) этно-лингво-конфессионально-национальному воображения, что создает эффект «малой Украины», «малой Грузии», «малого Казахстана». Или же, как в России, они создают смесь национализма (с выпячиванием языка, крови, традиции и конфессии) и империализма (антиреспубликанской и антигражданской политики, не знающей границ и рвущейся в земли сопредельных государств). Русский национализм не совпадает ни с границами Российской Федерации, ни с ее внутренней структурой, создавая многие радикализирующиеся этноменьшинства, не находящие себе места в национализированной федерации. И в то же время эта смесь толкает Россию на войну империалистического типа, ведущего к захвату территорий соседних государств и возникновению геополитики путинистского типа. Это всё плоды постсоветской национализации, они перешли в свою противоположность: вместо укоренения, они подрывают возникшие демократии и отменили рыночную логику. И вновь, будущее Восточной Европы и Северной Евразии, видимо, связано с их порывом к переустройству геополитического и геоэкономического пространства.
Ну и последний тренд постсоветского развития – это европеизация. Начинается она с нормативного понимания европейскости: в терминах Парижской хартии 1990 года и Совета Европы. Эта Хартия — документ, фиксирующий горбачевско-миттерановско-колевское политическое воображаемое с его большим европейским миром от Дублина до Владивостока. К 2022 году это пространство превратилось в фрагментированный материк, части которого конфликтуют от Ольстера до Магадана, от символического полюса этнорелигиозных войн до полюса бывшей столицы ГУЛАГа. И это новое пространство явно структурировано так, чтобы в его пространствах свершилась новая историческая эпоха воли, войн и несвободы. Вот я бы так очень кратко описал диалектику советской поры и то время, которое прожил дерзкий, прекрасный и ужасный постсоветский человек.
"ИЭ": Вы говорите о том, что нация меньше государства. Я как-то не сразу понял, что имеется в виду существование двух концептов нации. Нация гражданская, то есть, когда все граждане являются членами нации-государства и нация этническая, которая исключает меньшинства из своего состава. К сожалению, на постсоветской части восточноевропейского пространства именно идея этнической нации стала доминирующей. Это, наверное, одна из важных причин конфликтов, которые мы сейчас переживаем.
Михаил Минаков: И да, и нет. Я не уверен, что, по крайней мере, для новой Восточной Европы (Беларусь, Россия, Украина) этнос в его истинном смысле настолько важен. Тут эксклюзивный национализм связан не столько с этногенетикой, скорее с лингвистическими и конфессиональными идентичностями. Привязка к этносу вторична. В восточноевропейских и североевразийских обществах я вижу массы людей, которые происходят из разных этнических групп, но собирающиеся в «малые» нации, чьё воображение не накладывается на границы советских республик, ставших национальными государствами. У украинского социолога Валерия Хмелько была теория биэтноров. Биэтноры Украины были 40–60% «ядром» украинского общества, которое было двуязычным, двуэтничным, и именно они держали постсоветскую Украину вместе. Но в процессе постсоветской диалектики политические элиты размывали эту группу, и к какому-то моменту эта группа просто стала существовать в репрессированном виде. Она под запретом нового воображения «малой нации»: запрещено быть двуязычным, невозможно быть двуэтничным, в самом воображении и памяти этому нет места. Этот центр гравитации Украины выдавлен куда-то в общественное подсознание. То же самое произошло в Молдове и Грузии начала 1990-х, то же самое происходит в Казахстане.
"ИЭ": Для России как раз национализм — это не типично. Это всё-таки больше имперское сознание, чем этнический национализм. Я имею в виду ту же Украину, Молдавию. Был такой политолог Дмитрий Фурман. И он писал применительно к Молдавии, но это к Украине точно так же относится. Фурман пишет, что в России и Белоруссии демократия потерпела крах, а Молдавия осталась демократическим государством, где власть, как и в Украине, регулярно меняется в ходе выборов. Он усматривает причину в том, что полиэтничный состав населения не позволяет установить автократию. Сторонники автократии, несмотря на предпринимавшиеся ими попытки, не могут сформировать решающее большинство, на котором будет держаться авторитарный режим. И в Украине то же самое. То есть демократия объясняется прежде всего полиэтничностью. Сейчас, благодаря Путину, русская идентичность в Украине фактически уничтожена, поэтому и демократия, как это не печально, тоже приходит к своему «логическому концу».
Михаил Минаков: Я сторонник другой теории, которая объясняет живучесть демократических элементов не столько этнонациональным составом, сколько наличием клановых неформальных структур, которые в Молдове, Украине или Грузии не объединяются в единые президентские пирамиды. Вот в России, Беларуси, Азербайджане или Казахстане эти неформальные патрональные структуры — пирамиды — возникли. А у нас, в Украине и подобных странах, неформальные структуры всё-таки имеют тенденцию быть многопирамидальными, горизонтальными. Это — так называемые «патрональные демократии». Да, сама по себе патрональная структура не уважает право и не подерживает функциональную либеральную демократию; но борьба кланов создаёт пространства свободы. И поэтому «патрональная демократия» — это неустойчивая демократия, в которой есть хоть какие-то такие пространства свободы. И связаны они с этой неформальной подкладкой, тайной стороной политической экономии наших стран.
"Восточноевропейские общества дважды оказались историческими лузерами"
"ИЭ": Мы бы хотели вернуть нашу дискуссию к вопросу прогресса. Питер Тиль, основатель PayPal и протрампистский олигарх, если можно так выразиться, в недавнем интервью сказал, что прогресс тормозится искусственно т. н. «социалистическим государством». Если бы не оно, человечество бы уже давно колонизировали Марс и т. д. Вы тоже упоминали сторонников тёмного просвещения.
А с другой стороны, Вы пишете, что транзитология, как научная дисциплина о переходе от социализма к рынку, к т. н. «свободному обществу» и другим атрибутам либерализма, не оправдала себя. И процесс на самом деле оказался гораздо сложнее. То есть идея прогресса в мире и на востоке Европы не оправдала себя. Действительно ли сейчас мы наблюдаем застой в развитии, и идеи транзита себя не оправдали?
Михаил Минаков: Получается так, что восточноевропейские общества дважды оказались историческими лузерами (за редким исключением). Первый раз это марксистский прогресс: он не состоялся. Да, соцстраны в 1960–1980-е годы, достигли развития, которое отчасти оправдывают социалистические эксперименты, по крайней мере, в науке, в образовании, в ряде других сфер. Хотя я бы не хотел вернуться в социальную науку или философию 1984 года.
Вторая попытка прогресса — неолиберально-демократическая. Но рыночный неолиберализм, либеральная демократия и национальное государство подрывали друг друга. Даже в виде базовых витальных ценностей — изменении количества населения, например, — увидеть, что транзит создал миры, в которых население не хочет воспроизводиться. По меридиану от Таллина до Софии люди бегут, едут в другие страны, не рожают, воюют. Этот меридиан связан с ростом политической некрофилии, которая находит своё отображение в философских процессах, общественном воображении, коллективной памяти-беспамятстве и т. д. Это всё обрастает политическими системами, которые продолжают обезлюдение этого пояса.
Но прогресс на нашей планете всё равно происходит. И он происходит в других обществах и самым неожиданным образом. Если биополитически смотреть, то Индия и Африка оказались витальными мирами. Будущее человечества связано с растущим африканским населением. А раз возникает огромное население в африканских странах, то это будет требовать и более сложных социальных, экономических систем. Африка – это место для будущего прогресса человечества.
Кроме того, есть привлекательные для миграции страны ядра, например США. Да, можно спорить, насколько эта некогда либеральная демократия может обеспечить прогресс или управляемость быстро растущим населением за счет мигрантов. В США остается концентрация интеллекта и капитала, плюс растущее население. Это требует новых систем социального менеджмента и политического управления. Может ли политсистема, основанная в XVIII веке управлять таким огромным и разнообразным населением? Если в США будет найден ответ, то тут будет продолжаться прогресс как в политических, так и технологических терминах. Если нет, то место ядра займут другие страны. И именно они будут вести прогресс человечества.
Политическую сторону этого прогресса прекрасно описал Ваш коллега, историк Чарльз Тилли. Упрощая, можно сказать, что он описал историю европейских государств за многие столетия и показал, что из более 500 средневековых государственных образований к середине XIX века осталось 25. Прогресс шел, и в нем выжили лишь эффективные системы насилия и экстракции. Этот жестокий прогресс был связан с постоянными войнами, геноцидами, уничтожениями и т. д. Тилли показал страшную сторону государства. State making is war making. Ведение войн строит государство.
И, честно говоря, до недавних пор я соглашался с этим тезисом. А сейчас дописал статью, как войны повлияли на постсоветские государства. Я взял два примера стабильных автократий и два примера нестабильных демократий. То есть Россию и Азербайджан, для которых война была крайне важна в их развитии. А также Украину, и Абхазию. Да, Абхазия — это странная военная демократия, где правят ветераны и их кланы. В Абхазии происходят постоянные «майданы» абхазского толка, есть специфичная конкурентная политика. И патрональная демократия в Украине. Это всё очень интересные примеры, как война усиливает автократии, но подрывает развитие и эффективность демократий. И это вызов для социальных управленцев и политических элит: война способствует государственному строительству не всякого государства.
Нам для будущего Украины, например, необходимо найти модель для развития, для прогресса. Чем сильнее вызов, тем больше необходимость найти адекватную модель. Есть интеллектуалы, оставшиеся в Украине, например Сергей Дацюк и Фонд для будущего, которые мыслят и спорят о том, какая модель и развития адекватен для вызовов, брошенных Украине. Я вижу, что мы сходимся во многих вещах. Например, в конституционном патриотизме. Настоящий патриот Украины сегодня — это тот, кто уважает и отстаивает конституцию (и фундаментальные правовые акты основания Украины), несмотря ни на какие внешние и внутренние вызовы. Такие вещи в понимании, они важны и должны проговариваться людьми. Но я говорю извне, а Сергей Дацюк и его единомышленники или Андрей Ермолаев мыслят внутри Украины, они разделяют судьбу сегодняшних украинцев. А я всё-таки далек от этой среды — я давно живу в Европе, и моя рефлексия происходит на расстоянии.
Вы вспоминали «туземное знание», понятие, введенное социологом Михаилом Соколовым. С точки зрения метафизики, если вы разделяете судьбу определённого политического сообщества, остаётесь с ним в самых страшных ситуациях, то мышление, рефлексии и модели прогресса, которые рождаются в этой ситуации, заслуживают большого уважения и внимания.
Я вижу, что тип прогресса, который отстаивают Тиль, Ярвин и Ник Ланд, — это акселерационизм, отказ от всех препятствий (политических, правовых, процедурных и т. п.), которые мешают техническому прогрессу. Этот технический прогресс ведет не только к колонизации Марса, но и к изменению самого биологического вида человека, потому что это не только движение в космос, но и биотехнологический прорыв, сращение искусственного интеллекта и естественного мозга, тела и гаджета. За этим стоит огромное возможное будущее, которое может привлечь многих. Особенно, если вы из региона, в котором демократия или правосознание просто отсутствует, это набор слов, который не касается практики.
"ИЭ": Очень важно различать прогресс технический и прогресс социальный, потому что прогресс технический шёл всегда. По данным археологии мы знаем, если в одном месте происходила катастрофа, то утраченные в этом месте технологии тут же начинали развиваться в другом месте ещё на более высоком уровне. То есть это линейный процесс, который остановить нельзя. Другое дело социальный прогресс, который постоянно откатывается назад. Технический прогресс без прогресса социального может привести к страшным результатам. Современный Китай развивается стремительно, причём в области новой энергетики он опережает весь мир. Китайцы поняли, что им грозит, если они будут развивать свою традиционную угольную промышленность и т. д., потому что в Пекине еще лет десять назад всё было в постоянном тумане. Сейчас они с этим успешно борются. За несколько лет вышли на первое место по возобновляемым источникам энергии. Но этот технический прогресс не сопровождается какими-либо намеками на демократию. Я в Китае был несколько раз. Каждый приезд всё страшнее. Это то, о чём писал Oруэлл, но Оруэлл не мог себе представить, до какой степени дойдёт этот цифровой ГУЛАГ. В Китае ввели систему WeChat, через которую идут все платежи, все контакты с органами власти, все личные сообщения и звонки и т. д. То есть все коммуникации находятся под контролем государства. Это, несомненно, технический прогресс, но он просто ужасен с точки зрения европейской цивилизации, которая построена на идее свободе. Мы не можем с таким прогрессом примириться.
Михаил Минаков: Если говорить о послевоенной Европе, то действительно система двух паритетных суверенитетов, правительства и гражданина, это интересная, но неустойчивая модель. И сейчас необходимость создания новых систем безопасности и обороны бросают вызов этому паритету. Я думаю, что сам смысл европеизации уже во многом превратился в геополитический процесс, потерявший базовый правовой аспект. Вместе с новой исторической эпохой меняется и Западная Европа, ее социально-политическая модель. Она слишком сильно мешала прогрессу, как и советская. Теперь либо европейцы найдут способ остаться свободными, но прогрессирующими, либо утратят один из статусов — свободы или технологического прогресса.
Технологический прогресс, как ни крути, он идёт волнами. Сейчас волна на спаде. Давно не было фундаментальных открытий в естественных, в точных науках, физических науках. Но мне кажется, очень важно помнить, что прогресс обеспечивает весь комплекс наук, как естественных и точных, так и социальных и гуманитарных. Стабильный прогресс не может быть лишь технологическим. Он либо будет связан с социальной и моральной стороной прогресса, либо будет самоподрывающим и недолговечным. Как только вырывается одна из сторон прогресса, отодвигая другие, вот как в Китае, например, тогда этот прогресс неустойчив. Он имеет свои пределы, как и в Советском Союзе. Ведь смотрите, в 1990-е годы такая мощная советская наука была сметена, будто плесень. Доктора ушли на дачи, а аспиранты из Института кибернетики пошли делать евроремонты. То же может произойти и в Китае (недаром Китай настолько интересуется судьбой Советского Союза). Да, китайские исследователи ведут немало исследований причин распада СССР и эволюции его осколков. Вот где расцвела транзитология. Если получится понять, что произошло в позднем СССР, то китайцы надеются понять, как избежать той же судьбы… Возможно, системы науки и, соответственно, прогресс в Китае будут более сбалансированы.
Впрочем, один из тёмных просветителей Ник Ланд считает вот такой «град небесный» — Шанхай — лучшим местом для прогресса, модельным городом, где политические структуры не мешают техническому развитию.
"ИЭ": Это, кстати, то, чем китайские власти обеспокоены. Я в Пекине встречался с одним их товарищем с «погонами». Работает в одном из институтов при правительстве. Я его спросил какова его тема исследований? Он ответил: «Чтобы не было Майдана».
"Мы живём в рассыпающемся настоящем, слишком большом для революционных изменений"
"ИЭ": Не можем не спросить об утопии, поскольку мы с Михаилом посетили одну конференцию недавно, где это обсуждалось.
Я очень люблю цитату Джорджа Мартина, автора «Игры престолов» о прогрессе и об утопии. Он говорил:«... в 1950-х, когда я был ребенком, мы не могли дождаться попасть в будущее. Оно должно было быть замечательным, мир – справедливым, и все это было чудом завтрашнего дня. Там должны были быть чудесные чудеса, а жизнь – значительно лучше, чем сегодня. Люди проводили опросы, по которым выходило, что все верят: наши дети будут жить лучше, чем мы, а уж внуки – и подавно. Эта вера исчезла. Если взять текущие опросы, то большинство считает, что их дети будут жить хуже, чем они, а уж внукам вообще придется несладко. И я боюсь, что это так... Космическая программа, основа всей научной фантастики – заброшена. Когда я был ребенком в 50-х, я мечтал, что когда-нибудь доживу до того, чтобы увидеть, как человек будет ступать по Луне. И я это увидел, в 1960-х и 1970-х. Но я и представить не мог, что человек прекратит летать на Луну. И о том, что мы не полетим на Марс. И как это случилось? Это – политика. Но это еще и отказ от фантастической мечты, с которой я вырос».Существует подход, что утопия двигала прогресс, что человек изобретал, то есть сначала строил будущее в своей голове, а затем по намеченной схеме добивался этого. И вот постсоветский человек имел такую утопию. Ну, возможно, за исключением России. Он имел эту утопию на Западе. А сегодня этот американский Валинор, как я иногда его называю, разбился. Дональд Трамп его разбил. И я читаю некоторых наших украинских авторов, историков и публичных персон. Они буквально в шоке от того, что делает Трамп. А почему они в шоке? Он разбил их мечту, их идеальный западный мир. Разбил то, в чём они убеждали 30 лет людей, что нам туда. Он подорвал эти ценности. Он ведь ещё ничего не успел сделать, по большому счёту. Но ежедневная истерика в том же «Facebook», да и на других площадках по поводу Дональда Трампа, это ведь следствие краха этой утопии о пути в Валинор.
А есть другой подход. У румынского философа Никифора Крайника, всеми уже забытого, но когда-то в Румынии весьма популярного. Он сказал совсем другое: ностальгия двигает прогресс. То есть мы ностальгируем по идеальному прошлому, хотим его восстановить и таким образом прогрессируем.
В Украине есть выражение: «А кто в тридцатые годы не был фашистом?» Оно используется для оправдания националистов. Но я, разумеется, такой подход не разделяю.
Замечательный Мирча Элиаде, которого мы все очень ценим, не случайно выдал теорию о мифе вечного возвращения. Потому что он тоже был фашистом в 1930-е годы.
Михаил Минаков: Как раз Попович, которого мы вспоминали в начале разговора, тоже к этому вопросу возвращался, указывал, что эта ностальгия вечного возрождения нации связана с не существовавшим прошлым.
Но если говорить о революциях и их связи с утопиями, то революции стоит поделить на два идеальных типа: прогрессивные, то есть те, что ориентируются на будущий прогресс, и консервативные, видящие идеальное устройство в прошлом, которое нужно восстановить. И здесь германский нацизм, румынская «Железная гвардия», и ИГИЛ с их консервативной исламской революцией, — все они в этом плане вполне вписываются в идеальный тип консервативной революции. И утопия связана либо с модерным прогрессом и ориентацией на будущее, либо на утопию прошлого.
Когда мы с Юрием были на конференции, то во многом обсуждали, как менялась утопическая мысль. Она-то начиналась с понятия «более счастливых мест». В ХVI–ХVII веках воображение лучшего касалось пространства. Где-то есть чудесные места, утопия, новый мир. А потом уже ближе к XIX веку Вольтер, Гегель и Маркс историзировали утопию, сделав ее воображением «более счастливых времен». Сейчас, да, не ахти, но зато будущее прекрасно. Именно такая утопия будущего и двигала прогресс.
Однако я отстаиваю тезис, что сегодня утопии ничего не двигают. И даже Мартин, которого вспоминает Юрий, является представителем «реакционной» литературы, фэнтези. Фэнтези — это реакционная литература в том смысле, что вместо научно-популярной фантастики предлагает новый консервативный миф. Утопия прогресса связан не с Мартином, а скорее с воображением Клиффорда Саймака. Или вот Сергей вспоминал памятное жизненное событие. Да, увидеть Гагарина, это действительно связано с утопией будущего, утопией прогресса. — Но сейчас утопия прогресса не мотивирует социальные силы к изменению, прогрессу. Утопии по-прежнему есть, а революции вот уже двадцать лет как стали дисфункциональны. И ИГИЛ проиграл, и неонацистские попытки, и прогрессистские революции сваливаются в немощь.
И я бы не согласился, что в России начала 1990-х не было утопии. Гайдаровцы имели свой образ будущего. Даже ранний Ельцин и его последователи, наверное, тоже имели утопическое воображение. Но доступ к искушающе большим ресурсам и маленькая чеченская победоносная война превратили их в циников, и весь их прогрессивный утопизм исчез. Тот огромный революционный порыв, который был в Москве, он сошёл на нет.
Представьте, не так давно один из исследователей делал доклад по самым большим манифестациям в Восточной Европе и Северной Евразии. Автор указывал, что самым большим собранием людей на политической манифестации произошло в марте 1990 года, когда более миллиона человек (по консервативным данным МВД СССР) вышли на Манежную площадь и сопредельное пространство, чтобы поддержать независимость трёх прибалтийских республик. То есть это событие явно было связано с утопической идеей огромной силы. Люди выступали явно не за свои интересы, практический аспект отсутствовал. Но тем не менее огромное количество людей вышли, солидаризировались с балтийскими народами. И мне кажется, что чеченская война была тем демодернизационным опытом, который быстро надломил утопию 1991 года.
"ИЭ": К утопиям на обыденном уровне относятся как к беспочвенным фантазиям. Но сейчас в психологии и нейрофизиологии очень много проводят экспериментов, которые показывают, что память и воображение взаимосвязаны. За оба процесса отвечают одни и те же участки мозга. Утопия – это именно воображение на основе памяти. Мы должны вначале придумать новый мир с учетом опыта человечества и потом этот мир создавать. Так и поступали мыслители XIX века. В романах Жюля Верна мы находим концентрированное выражение утопии, которая становится исходной точкой общественного прогресса. Тогда казалось, что наука сейчас ещё немного поднажмёт и начнётся счастливая жизнь. Но наука привела не только к промышленному уничтожению людей в ходе двух мировых войн, но и к атомной бомбе... Люди стали бояться будущего после того, как увидели к чему привели наука и технический прогресс. Поэтому сейчас так популярен миф вечного возвращения, все эти «традиционные скрепы». Это главная проблема наших дней. То есть мы можем выдвигать утопии, но их никто не подхватит сейчас, потому что все мыслят «скрепами», мифом вечного возвращения.
Михаил Минаков: Да, это — симптом нашей нарождающейся эпохи. У Ханса Ульриха Гумбрехта есть прекрасное объяснение: мы закрыли для себя будущее, потому что боимся его; прошлое мы забыли и выдумываем; поэтому мы живём в настолько большом настоящем, что оно не держится вместе и рассыпается на фрагменты. И мы живём в таком вот рассыпающемся настоящем, слишком большом для революционных изменений. Это симптом нашего времени, предвестник настающей эпохи.
"ИЭ": А как-то можно вернуть назад это понятие прогресса, утопии, веры в будущее? Как философ, вы видите какие-то инструменты, которые могут это осуществить?
Михаил Минаков: «Вернуть назад» жажду прогресса уже само по себе ностальгический симптом, не правда ли?
Я бы так ответил по сути вопроса. Прогресс неизбежно будет, пока существует человечество. Но он проходит не везде. В одних регионах прогресс будет происходить за счёт других регионов. Мир-системное ядро всё время пытается управлять развитием как у себя, так и сдерживать развитие в других странах – это часть формулы планетарного сосуществования, в рамках которой мы живём. И критика Тиля и Ланда «застойных систем» в этом аспекте очень сильна.
К примеру, Тиль — созидатель, визионер, бизнесмен, но в первую очередь он — философ. Когда-то популярным философским жанром была натурфилософия, а Тиль создал жанр бизнес-философии. Его книги основаны на очень сильной метафизике. Он начинал мыслить как цифровой анархист, чуть не стал аспирантом у Юргена Хабермаса. Но его бизнес-опыт, корпоративное мышление его круга привело к новому монархизму, или цифровому монархизму и к поиску оснований корпоративной модели государства. Если считать, что Китай или Советский Союз были корпоративными государствами, то та политическая модель, которая вырастает на метафизике Тиля, может сработать реализовать корпоративное государство в Северной Америке. В американских и канадских антиутопиях вы можете увидеть то, как эту модель осмысливают — и как её боятся!
"На западе возник новый жанр — Зеленсковиана"
"ИЭ": Мы мало обсудили саму книгу «Постсоветский человек и его время». На самом деле это очень интересный взгляд на нашу эпоху, в том числе и для историка.Но последняя Ваша книга называется «От слуги к лидеру» и посвящена Владимиру Зеленскому. О нем уже написано много книг. Есть научная биография Ольги Онух и Генри Гейла. Саймон Шустер представил журналистское видение. Кость Бондаренко у нас, в «Исторической экспертизе онлайн», представлял свою книгу. Почему Вы заинтересовались этой темой? Как Вы видите фигуру Владимира Зеленского в контексте нынешней войны?
Михаил Минаков: Я уже говорил, что в прошлом я был кантианцем. А теперь важно заметить, что я стал гоббсианцем. Меня очень зацепила книга «Бегемот» Томаса Гоббса, где он рассматривает историю революционной Британии в философских терминах. Я попытался сделать то же в «Постсоветском человеке». Читателям судить, насколько удачно.
А вот книга «От слуги к лидеру: Хроники Украины времен президентства Владимира Зеленского, 2019–2024» была написана в течение 5 лет. Она основана на моих колонках, посвященных политическим, социальным и культурным событиям, опубликованным в Институте Кеннана. Эта книга не о Зеленском. Это — хроника Украины последних пяти лет. Она посвящена тому, как народ Украины прожил шесть лет президентства Зеленского.
Когда читал свои посты 2019 года и обрабатывал их для книги, то часто думал: «Боже, какой я был наивный, какое ужасное будущее было нам уготовано». И тем не менее я не менял тональность и наивность записей, это честная хроника восприятия событий в их течении. Эти событийные срезы и переживание их я оставил неизмененными, я не менял их тональность. Я только источники мог поправить… Эта хроника была для меня очень необычным опытом. И да, эта книга сделана под принуждением издателя, за что я ему очень благодарен.
Но когда Юрий задавал вопрос, то затронул еще один аспект — то, как много написано о Зеленском. Я веду реестр публикаций, в нем уже за 200 книг и больших статей. На западе действительно возникла Зеленсковиана, целый новый жанр в западной науке.
Есть исключения украинских авторов, например биография Зеленского, вышедшая из-под пера Костя Бондаренко. Но это — редкое событие…
А вот на Западе издано немало книг, посвященных Владимиру Зеленскому, от научных до популярных и до детских книжечек. Будь, будь храбрым, как Зеленский — вот, например, книжечка для детей, написанная автором с восточного побережья США. Вот это книжное меню показывает, что миф о Зеленском сложился и укрепился на Западе. Я уверен, что историки и литературоведы будущего будут изучать этот феномен (как, например жанр «мазепианы»).
А сейчас я бы так сказал: Владимир Зеленский — это фигура противоречивая, фактурная и будоражащая ориентализирующее воображение западных авторов и читателей. Что касается правления Зеленского, то в книге я отстаиваю тезис, что на самом деле это были три разных президента. В своей книге я показал Украину времён президента Зеленского как «слуги народа», выполняющего избирательную программу. Затем Украину времён «господина» Зеленского. И затем «вождя» Зеленского. Это три разных периода Украины, которую вели три разных президента с одним именем. Вопрос в том, и на этом я заканчиваю книгу, что он был способен переизобрести себя несколько раз, становясь в разные периоды совершенно иным политиком с новыми ролями и новыми сценариями. Будет ли новое перевоплощение в Postwar President? Postwar — это не менее страшные времена, чем времена войны. Новость о том, что даже Black Rock перестал заниматься фондом для восстановления Украины, является «звоночком» о том, насколько тяжелой будет послевойна. Да и Тони Джадт, который концептуализировал «послевойну» после Второй мировой, показал, что это новый тип несправедливости, следующий после войны. Это то наше близкое будущее, которое может ожидать Украину и Восточную Европу. И для него нужен будет новый лидер.

 Версия для печати
Версия для печати